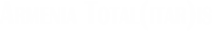Ирен Ордуханя

С Ирен Абеловной Ордуханян (1938 г. рождения) (рис. 8/1, 8/2) и ее дочерью, Агатой Ванунц (1963 г. рождения), более чем полуторачасовое интервью 15 декабря 2013 г. в Ереване провел Арутюн Марутян. Беседа велась частично по-русски, частично по-армянски.
Мой отец, Абел Искандарович Ордуханян, был арестован в октябре 1937 г., мать, Эвелину Вардановну Киракосян, не сослали, поскольку в это время она была беременна мной, должна была рожать. Поэтому мама благодаря мне осталась, я родился в марте, папа в это время уже сидел здесь в тюрьме. У меня есть и сестра, Карине, старше меня на три года.
Папа родился в 1902 г. в селе Шахат Сисианского района. Он был первым секретарем Алавердского района.[1] И когда его арестовали, обвинили в том, что там заводы стали производить мало продукции, всё стало хуже, что он будто устраивал саботаж, был врагом народа.[2] Отец доказывал по документам, что всё было наоборот, пока не понял, что не имеет смысла что-либо доказывать. Это я рассказываю по рассказу мамы.
Мама моей мамы с тремя дочерьми бежала из Баку в 1918 г. Моя мама 1914 г. рождения. Они бежали в Гюмри, поскольку вся родня бабушки была из Гюмри. Папу моей мамы турки убили прямо в Баку в больнице [1918 г.]. Он оставил четырех сирот, и одна из дочерей умерла в 1918 г. Моя мама спустя годы работала на Ленинаканском текстильном комбинате, смелая, молодая, красивая девушка 18-19 лет. Здесь же она знакомится с папой: он был партийным работником, наверное поехал на завод для беседы с рабочими. Ну, мама вышла замуж, и папа привез маму, а также бабушку и двух ее дочерей в Ереван. Все вместе жили в квартире на Алавердяна. “Говорят, что именно на эту квартиру зарились, когда писали донос”, – вступает в разговор Агата. Была большая, хорошая квартира. Пришли и выгнали из квартиры [после ареста отца], маму отвели во двор типографии на улице Алавердян. Туда, где сейчас министерство культуры и другие, там раньше были хибары, нас туда бросили, и мы там выросли.
До тех пор пока не вернулся отец. В решении суда о реабилитации было написано приблизительно так: оправдан за отсутствием преступления. Дедо[3] нехотя говорил, что ясно, кто написал донос. Хочу сказать, что отец ничего не подписывал, он был человеком из железа.[4] И поскольку он ничего не подписывал, его не могли приговорить к расстрелу, вроде такое помню. Насколько знаю, суд был.[5] Папу держали в тюрьме ереванского КГБ до апреля-мая, потом сослали в Сибирь. Мама рассказывала, что она, беременная, носила в тюрьму передачи [еду], там бывали огромные очереди, и как-то, рассказывает, в один из дней к этой очереди подъезжают конные милиционеры, и один из них, руководитель, генерал Хворостян[6] [фамилия], стал избивать тех, кто принес передачу, говоря: “Разогнать эту контрреволюционную мразь”. И что интересно, этого человека спустя некоторое время тоже расстреляли.
Вот так папа попал в Сибирь. Норильск. Говорит Агата: “Его приговорили к пожизненному заключению, но он сидел 18 лет.[7] Так бабушка говорила”. Но перемены места заключения были.[8] Сначала был на лесоповале, потом перевели в Норильск. Когда он сидел, их отводили в тайгу, причем папа говорил, что никакого надзора не было. Потому что возможности убежать не было. А если бы кто убежал, умер бы от холода. То есть за ними [ссыльными] необходимости надзирать не было. Все они возвращались в свои бараки. Папа рассказывал, что их в бараках держали голодными. А в один из дней приехала комиссия из Москвы, всех собрали и стали спрашивать: ну как, всё у вас в порядке, вы всем довольны? Папа сказал: знаете что? Может, лучше нас сразу расстрелять, чем так постепенно морить голодом?
Говорит Агата: “Когда дедушка рассказывал мне, он, конечно, рассказывал с некоторым редактированием. Старался рассказывать красивые истории, например, историю о лошади часто рассказывал. Но изредка рассказывал об увиденном – действительно жестокие истории и о допросах, и о ссылке. Запомнилось в частности одно выражение: “Мое тело стало пепельницей из мяса”, то есть сигареты тушили о его тело. И в некоторых местах на его теле следы этих ожогов остались. Рассказывал, что иглы вгоняли под ногти”.
В последнее время я часто вспоминаю папу – виноватой чувствую себя перед ним. Потому что мы, я и сестра, вначале [после возвращения отца из ссылки] так плохо к нему отнеслись. Он сказал: получу квартиру и уйду, поскольку дочери не хотят меня. А знаете почему мы так делали? Мы ревновали из-за матери. Всё сводилось к этому.
Когда папа был в ссылке, у нас дома было запрещено говорить на эту тему. Все 18 лет мы жили во дворе типографии. Мама работала главным бухгалтером в “Нефтесбыте”. Во дворе в играх я была очень азартной, никогда не проигрывала. А дети иногда злились и говорили: “А твой папа сидит в тюрьме”. Я сразу начинала плакать и шла домой. Уж не говорю о школе. У нас была сволочная директриса. Я училась в школе имени Пушкина. Она была женой репрессированного, но официально от него отказалась. Она все время думала: как сделать, чтобы я ушла из этой школы. И что бы ни случилось, она говорила: конечно, это могла сделать только дочь контрреволюционера – Ордуханян Ира. Так говорила или в классе, или в учительской, в присутствии всех учителей. Эта женщина преподавала нам Конституцию. Из-за нее сестра не получила золотую медаль, а Kарине училась блестяще. Во время выпускных экзаменов эта директриса была в составе комиссии, и когда сестра как следует отвечала, сказала: “Ну, дочь контрреволюционера не может иметь “пятерку” по “советской конституции””, и поставили “четыре”. Это была ее единственная четверка в аттестате, и она получила серебряную медаль. Когда сестра хотела поехать в Москву поступать в вуз, ей сказали: вы же дочь контрреволюционера, поступайте в любой вуз в Ереване, куда только захочешь, ты проходишь вне конкурса, но поехать учиться в Москву ты не можешь.
Я была уже в седьмом классе, у нас был урок русского языка и я должна была привести пример по грамматике, используя предложение. И я взяла и написала на доске: “Маргарита Богдановна, директор нашей школы, оказалась несправедливой учительницей”. Класс застыл, учительница, Арпик Николаевна, окаменела. Она поставила директора в известность. Она сказала: если бы я не сказала, другие донесли бы, и директор сказала бы мне: почему ты не сказала, что такое было? Ну, одним словом, против меня начались преследования, меня на 15 дней исключили из школы, наш класс приходил ко мне домой, они объвили бойкот, потом директор сказала: переведите ее в другой класс, поскольку этот касс находится под ее влиянием. Одном словом, десять лет учебы проходили для меня в атмосфере преследований. Говорит Агата: “Бабушка рассказывала, что в классе проводили собрания, Иру сажали на первую скамью и начинали говорить о контрреволюционерах, врагах народа, о том плохом, что они сделали, и наказании, которое они несут, и она [Ира] вместе с другими должна была аплодировать. Чтобы Ира знала свое место”.
Да, с Норильском велась переписка. Говорит Агата: “Бабушка очень подробно писала [дедушке], как девочки растут, как учатся, что говорят. Связь всегда была”. Мы посылали ему посылки [продуктовые]. Хоть надежды на встречу не было. У меня имеется письмо деда Сталину. Из Сибири. Папа очень подробно объяснял в этом письме, что обвинение против него совершенно бессмысленное. Вот это письмо я сохранила, хоть нескольких страниц нет.
Мама была между двух огней. Стоило этому бедному человеку положить руку на руку мамы, как нам становилось как-то не так. Карине даже получила что-то вроде душевного расстройства. Мама водила ее к врачу. Врач сказал: я не знаю, что произошло в вашей семье, но эту девочку надо срочно вывезти из города. И потом это противостояние продолжалось, продолжалось, но понемногу становилось легче. Особенно когда увидели, как он полюбил наших детей, просто как сумасшедший – он не видел, как мы росли, и всю свою любовь отдал внукам… Конечно, мы с сестрой понимали, что отец не виноват в том, что 18 лет провел в тюрьме и ссылке. Сейчас, когда я пытаюсь анализировать, почему мы так вели себя, я же не глупая, почему так было, то думаю, что, возможно, мы неосознанно “мстили” нашему папе за наше ужасное детство. Возможно, мы этого даже не осознавали. В конце концов мы уже очень полюбили нашего папу (продолжает взволнованно), но дорога к этой любви лежала просто через ад. И поэтому сейчас я чувствую себя виноватой в том, что даже в мыслях не было попросить у него прощения. Даже в мыслях не промелькнуло. Сказать бы ему: прости, папа джан, глупой была, не понимала. Я сейчас понимаю все это (со слезами в голосе). Папа умер в 1985 г.
Когда он только приехал, у него было большое желание рассказывать. Говорит Агата: “Тогда не знаю кто сказал бабушке, что его нужно отвлекать от этих разговоров, чтобы он снова не переживал те трудности. Но он чувствовал в этом потребность [рассказывать об этом]. Его Фрунз [кинорежиссер Фрунзе Довлатян, второй муж Ирен Ордуханян] выслушивал”.
Когда папа вернулся, Кочинян [тогда председатель Совета министров Армении] сказал: “Абел, на какое здание в Ереване укажешь пальцем, там получишь квартиру”. И папа выбрал это здание [Московян, 8], которое тогда еще не полностью было готово. Затем работал в Госплане и в последние годы [жизни] был главным специалистом Цветных металлов Армении. И это Кочинян сказал: “Памятник тебе мы поставим во дворе завода”. Почему? Потому что русские говорили: вы сырье [медь] давайте нам, мы переработаем. И по этому вопросу папу послали в Москву, и он там доказал,что “наше сырье мы сами можем переработать и вам давать уже готовую продукцию”. И когда он вернулся с этим постановлением, Кочинян сказал: как только откроется этот завод, я твой медный бюст во дворе завода поставлю.
О том, хороши или плохи советские порядки, папа никогда не говорил. Никогда. Говорит Агата: “Когда при нем плохо говорили о Сталине, он говорил: “Лес рубят – щепки летят”. И когда мы начинали спорить, доказывать, мол, это ты – щепка или Бакунц – щепка?.. он не любил такие разговоры”. Был очень сдержанным. Говорит Агата: “В мыслях осуждал, вслух – нет”. Он боялся, что мы распустим языки себе во вред. Этот страх в нем был. И было неизвестно… ведь те дни могли вернуться, не так ли? Он не участвовал в разговорах критического характера.
Агата продолжает: “Подобное сталинизму бывает в жизни любого государства. А что, Парижская коммуна была лучше? Дедушка всегда так говорил. И цитировал: “Революция, как Сатурн, пожирает своих детей”.[9] Ну, возможно, у русских было немного иначе, но, думаю, подобные ужасные времена бывают во всех странах. Сейчас вошли в моду употребляемые по отношению к нему выражения: “харизматическая личность”, в какой-то мере, быть может, схожая с Гитлером; привлекал людей, умел управлять толпой; возможно, обладал умением, полученным от сатаны. Почему, к примеру, в Германии к власти пришел Гитлер? Есть какая-то закономерность. Приходит некий злой гений, и потом все, вначале по доброй воле, потом уже из страха, подчиняются. Возможно, причины бывают разными, но схема та же. Как мне кажется, в какой-то момент рождается злой гений, который приносит несчастья… Для того чтобы сейчас наступили времена, подобные 1937-му, как минимум необходима личность. А где такая личность?”
Мне кажется, что возвращение подобных времен невозможно. Сейчас международное положение таково, что никто такое не позволит. Я не вижу попыток посеять атмосферу страха. Продолжает Агата: “Если я буду участвовать в митингах, скажем, я “левонакан” [последователь Левона Тер-Петросяна], и однажды попаду в кадр, и если однажды на работе мной в какой-то мере будут недовольны, то мне могут сказать “до свиданья”. Почему я так думаю? Потому что одного уволили. Правда, он был журналистом. Он был левонакан, просто пошел на митинг, его сфотографировали, он попал в кадр. В эфир это не пошло, но его уволили. Тем не менее что-то есть. И еще, это было несколько месяцев назад, был митинг левонаканов, один из членов организации “World Vision” пошел на этот митинг, а также выступил на нем. После этого он на машине возвратился домой, незнакомые люди вошли за ним во двор, жестоко избили, он попал в больницу. Но поскольку “World Vision” – международная организация, которая находится под покровительством евангелической церкви, был поднят шум, этого человека пригласил американский посол и сказал: мы готовы предоставить Вам “грин карт”, переезжайте в нашу страну на жительство. Пригласили также из одной европейской организации – если, мол, желаете просить политического убежища в какой-либо европейской стране, мы Вам поможем. Шум был большой, даже появилась шутка: “Kто избил этого Сурена? Сурен, нет у тебя их данных? И нам скажи”. Она всем очень нравилась”. Агата продолжает: “О сталинских репрессиях говорить следует, хотя бы из уважения к этому поколению. Но что эти “разговоры” что-нибудь предотвратят, сомневаюсь”. Ирен завершает: “Говорить необходимо, чтобы дать понять, что всё пока еще не забыто. Пусть не надеются, что мы забыли это и можно снова начать.Об этом надо говорить! Постоянно. Что это не забыто, это не прощено”.
[1] Согласно уголовному делу (Национальный архив Армении, ф. 1191, с. 2, д. 268) был также секретарем Амасийского района, вторым секретарем Ереванского горкома, при аресте – инструктором ЦК КП(б) Армении.
[2] Согласно уголовному делу А. Ордуханян обвинялся в том, что с 1935 г. был членом армянской антисоветской, правотроцкистской, националистической организации, а также во вредительской деятельности в сельском хозяйстве, производстве и партийной работе, контрреволюционной националистической агитации и пропаганде. Согласно обвинительному заключению целью оранизации было насильственное свержение советской власти в республике, отделение Армении от СССР и восстановление капотализма. Руководителями “организации” были А. Ханджян, С. Тер-Габриелян, Аматуни и Гулоян.
[3] Так называли Абела Искандаровича его внуки. Ирен использует в своей речи ту же формулировку.
[4] В уголовном деле отмечено, что А. Ордуханян виновным себя не признал.
[5] На самом деле было закрытое выездное заседание военной коллегии Верховного суда СССР 20 июля 1938 г.
[6] Виктор Хворостов, народный комиссар внутренних дел АрмССР с ноября 1937 г. по март 1939 г. Сменил на пике политических репрессий 30-х гг. Хачика Мугдуси, народного комиссара внутренних дел АрмССР, арестованного в сентябре 1937 г. Считается кадром наркома внутренних дел СССР Ежова в Армении. Абел Искандарович Ордуханян был арестован в октябре 1937 г., и применение физического насилия по отношению к нему совпало с самоутверждением на этом посту Виктора Хворостова. Виктор Хворостов в свою очередь был расстрелян в 1939 г.
[7] Согласно уголовному делу А. Ордуханяна приговорили к 15 годам заключения с конфискацией всего личного имущества. Срок считать с 14 октября 1937 г.
[8] Согласно уголовному делу первым местом ссылки, должно быть, было село Каргино Енисейского района Красноярского края.
[9] Это выражение приписывают видному деятелю Великой французской революции Жоржу Жаку Дантону, который произнес его перед казнью.
[nggallery id=44]