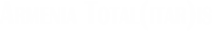Парсадан Арутюнян

С Парсаданом Арутюняном беседовали в Капане Кнар Ервандян и Грануш Харатян 14 июня 2013 г. (Рис. 1)
Я родился в деревне Бех. Второй потомок моего деда, Парсадана Парсаданяна, которого в 1936 году сослали в Алтайский край, в 36-37 годах. Его сослали, а семья – мой отец, 11 лет, моя тетя [сестра отца], 8 лет, бабушка, ей тогда наверное было 26-27 лет, – стала семьей врага. Дед был председателем сельсовета, между прочим, принимал участие в первой мировой войне и был ранен в щеку. Пуля попала, в щеке большая ямка была. После прихода большевиков его, видимо, как немного образованного, грамотного человека назначили председателем сельского совета. Ну, в те годы была частная собственность, колхозов еще не было, а у нас было много земли, потому что братьев было много. Мы истинные потомки Давид бека. Мы из потомков Мелик Парсаданянов, потомков полководца Давид бека, потомков одного из тех пяти братьев, которые ушли из Галидзора и основали деревню Бех. Мой дед, я, конечно, не видел, говорю как слышал, мой дед в первую очередь построил в деревне дорогу. Наша деревня была всего в трех километрах от Капана, сейчас находится в пределах Капана, называется рабочий поселок Бех, квартал Бех Капана. Построил школу. Наш дом, где жил дед со своей семьей… перед нашими воротами было место сбора наших сельчан, народ собирался, беседовали, поджидали свою скотину, своих детей. Там всегда были положены камни, там собирались, беседовали. Все началось с того, что как-то дед проходил мимо них и сидевшие там старики говорят: «Парсадан, как ты думаешь, Агаси Ханджян тоже сам себя убил?» Дед, заходя в хлев, говорит только: «Не такой он был человек, он бы себя не убил». И только. Сказал и вошел в хлев. Ночью пришли, забрали, той же ночью. Отец рассказывал. В эту ночь из трех-четырех семей забрали. Тех, кто был с ним близок, кто был членом сельсовета, кто с этими мыслями, может, был согласен. Их считали единомышленниками. Был один, Дживаншир, тоже образованный, грамотный, окончивший какое-то реальное в Шуши. Всех сослали, три-четыре семьи. Но в других местах ссылали с семьями, а у нас только глав семей взяли. Из сосланных только Дживаншир вернулся. Более десяти лет оставался в ссылке.
Вся наша большая семья после этого стала рассеиваться, убежали в Баку, Кировабад, не знаю куда, чтобы их не забрали. Бабушка осталась одна с моими отцом и тетей. Сейчас у меня есть дядя, 40-50 лет жил схоронясь в Кировабаде, был директором больших школ, имеет педагогическое образование, был даже директором азербайджанской школы. Я ездил к нему в Хаджикенд. Отец боялся ходить к дяде, боялся. В сельской школе его не приняли в октябрята, ни его, ни тетю. Ему было восемь лет. Должен был быть октябренком, потом должен был быть пионером, а потом должен был быть комсомольцем, не приняли, всего лишили. Они ходили с моей бабушкой, им разрешили, подбирать колоски. Собирая колоски, вырастила детей бабушка, в этом поле и заболела. Мы не были членами колхоза, но нас заставляли работать. Трудодни не выписывали, писали, что собрал на пшеничных полях остатки. Все родственники от нас отвернулись. Со стороны бабушки имеем очень богатых людей. То ли в Баку, то ли где, но боялись помогать, боялись даже говорить, что мы родственники. Отец кое-как, он уже большой был, приносил дрова на закорках, кое-как обходились. Изредка помогали также сельчане: давали мацун, не знаю что еще делали. Отец думал, мучался: что если человек, который нам помог, может, кто-то из них пошел, донес или подписался под письмом. Ведь доносчиком должен быть один из наших односельчан, других нет. В школе притесняли, ну, раз он не был комсомольцем, то ни в каком собрании не участвовал, никакой общественной работы не поручали. Был всегда расстроен, подавлен. Отец ходил в школу нехотя, через силу, окончил среднюю школу с довольно высокими оценками, поехал учиться в Ереван. Отца и в армию не взяли, не доверяли, сказали: сын предателя народа, возьмем, что с ним будем делать? Ну, называлось это антисоветским, контрой, дашнакцаканом. Был, был дед членом партии дашнакцакан. В те годы, до установления советского строя. После этого, уже когда пришли большевики, все утряслось, он уже называл себя большевиком, но не знаю, был членом коммунистической партии или нет. А тетя замуж вышла рано. Бабушка боялась, что вдруг девушку не будут сватать, потому что дочь репрессированного. Вся семья боялась. Были лишены права голоса. Лишенные права голоса – это те, кому не разрешено участвовать в выборах, в особенности бабушка.
Положение бабушки было тяжелым еще и потому, что ее дед был духовным лицом, был священником, из-за этого тоже очень притесняли, это тоже с другой стороны. Говорили: ты внучка священника, кроме того, что жена репрессированного…
После войны пошли слухи, что моего деда оправдали. Еще был сталинский режим, но ссыльных отпускали. Он был с Дживанширом, нашим односельчанином, по дороге домой в Ташкенте они заболели, был голод, ничего не было, они простудились или что, но он умер именно в Ташкенте, под стеной. Дживаншир, наш односельчанин, предал его земле. Он приехал, привез реликвию, прошло уже много лет, одежду привез. Бабушка не помнила, чтобы он носил эту одежду, но он сказал, что это одежда вашего ссыльного. Это было в 47 или 49 году. После 56 года мы получили бумагу, что он был освобожден, но до места не дошел. После 56 года отец работал в отделе культуры. Потом, позже, помню, как-то, я помню приблизительно, в Капане, в доме культуры, на Первой улице, была доска памяти репрессированных, реабилитированных, не знаю кого еще, на ней портрет деда повесили. Может, это были 60-е годы, отец повел меня, показал, что портрет его отца есть там, он реабилитирован. Но ничего не изменилось, мы остались теми же, опять боялись. Потом я сказал: а у тебя совсем нет родственников? Потом выяснилось, что у нас много-много родственников, все в Баку, убежали. Тогда все убежали в Баку.
На самом деле все было неясно, никто ничего конкретно не говорил, и это всех пугало. Судебного процесса не было. Отец говорил, что ночью, после двух-трех часов, пришли сотрудники капанского НКВД, сказали: вставай, едем в Капан, так уехали… и уехали. Только приехали в Капан, сразу посадили в поезд и увезли. Сразу ссылка, в тюрьму не отвели. Родственники бабушки, у кого были средства, боялись приблизиться. Если Парсадана арестовали, нельзя быть в близких отношениях с его семьей, надо отказаться от родства. Весьма возможно, что и письма писали: мы, мол, отказываемся от своей сестры. Впоследствии, конечно, после смерти их сестры, пришли, продолжили родственные отношения. У моего отца, между прочим, были очень хорошие дяди [братья матери]. Один дядя был военкомом, военкомом Закавказья, уже после войны. Был в Баку, генералом, был даже директором военного училища. Все его сыновья, дочери были людьми, занимавшими в России высокие посты, после 50-х годов. Безопасность визита Сталина в Иран, той Тегеранской конференции, обеспечивал брат бабушки, тогда он был полковником. Oн проезжал через Иджеван, ехал в Иран, что-то вроде посылки послал сестре, одежда, не знаю что еще, изюм. Но не сказал, кто послал. А наши в то же самое время, разбредясь по лесам, готовили сухофрукты, сушили мушмулу, сушили фрукты, этим жили. Отец говорил, что он ночью ходил собирать колоски, собирал на ощупь, днем не разрешали собирать. Ну, колоски всегда высыпались, на ощупь собирали колоски, чтобы перемолоть на ручном жернове, немного хлеба иметь для еды. Ну, от сырой, мокрой, дождливой погоды, из-за всего этого бабушка такую женскую болезнь получила… может, простая была болезнь, но лечиться не было никакой возможности. Потом отец спросил их, сказал: «Дядя, почему вы держались в таком отдалении?» Говорит, что он сказал: «Каждый дрожит за свою шкуру, она о своих детях думала, а я в то время о своих детях думал. Я боялся. Правда, сердце разрывалось из-за сестры, из-за того, что в те голодные годы, взяв с собой двух детей, колоски собирала, но ничего не мог сделать».
Отец очень хотел стать коммунистом. В те времена, когда он работал в отделе культуры, уже был немного реабилитирован, уже не очень притесняли, разрешали работать, но в коммунисты не принимали как сына репрессированного. А отец мечтал об этом, говорил: я должен доказать, что настоящий коммунист – я. Ему нравилась коммунистическая идеология, он уважал ее. В Ереване у него были влиятельные знакомые, за стол садился с руководителями, коммунистами, но сам не был коммунистом. В коммунисты вступил в 60 лет. За два года до того как вступил я. Уже очень поздно, в 1985 году. Но очень хотел. Скажу между прочим, что отец был очень прямым человеком. За эту прямоту его даже прозвали «дашнаком». Не за то, что его отец был дашнакцаканом, а за прямоту. Даже после стольких горестей, страхов, тревог никогда не говорил неправды, ничего не скрывал. Поэтому отца называли «дашнак». То есть коммунисты прямого, честного человека называли «дашнак». Странное дело. Отец душой, сердцем был коммунистом – а его нзывали «дашнак». А сейчас я. Я тоже прямой человек. Я был коммунистом, но иногда, глядя на этих дашнаков, говорю: настоящий дашнак – я. Дашнакцакан в моем представлении должен до конца быть преданным нации, преданным народу, преданным государству. Коммунист или дашнакцакан – таким должен быть. В моем представлении эти обе партии требуют преданности государству, требуют служения, требуют прямоты, честности. В этом смысле я и коммунист, и дашнакцакан. И в этом не вижу противоречия. Правда, я знаю тысячи ошибок Советского Союза, наша семья так пострадала, но советская власть построила Армению. Построила Армению, которая могла быть растоптанной, и даже не заметили бы. Только то обстоятельство, что мы смогли существовать, наряду с другими народами, и с одного миллиона трехсот тысяч дошли до трех миллионов, десяти миллионов, это обстоятельство дает нам много поводов для раздумий. Я работал только на одном предприятии, ни разу не видел своей трудовой книжки, только когда завод был уже закрыт… 36 лет там проработал, от простого рабочего дошел до директора. Высшего образования не получил, окончил горный техникум, но сам очень много читал, я большой любитель чтения. Одним словом, в Армянской Советской Социалистической Республике был порядок, можно было, работая, добиться цели. Не ценить это нельзя. Но жертв было много, несправедливых жертв. Сейчас, когда говорят «реабилитация», «компенсация», как это считают? Приведу одно сравнение: чего бы мы могли достичь, если бы не было этой ссылки? Где была бы моя тетя, какую должность имел бы отец, каких вершин он бы достиг, где были бы мы? Вот если считают, что можно каким-то образом компенсировать, это должны иметь в виду, то, что четверо детей было у отца, двое у тети, эти дети… почти лишенные права голоса, настороженные, напуганные. Правда, в лицо не говорили, но из всего было видно, что по отношению к нам нет доверия, даже по отношению к потомству. Я это много раз чувствовал. Неужели невозможно было нам тоже немножко пожить нормально? Я хотел машину, отец говорил: нам этого не надо. Родственники отвернулись от нас или держали себя настороженно, соседи держали себя настороженно, общения не было, к нам домой приходили тайком. У отца особо больших желаний не было и риска не хватало, он свои риски в жизни растерял. Рискнул бы, например, переехать в город, благодаря своему образованию создал бы для нас новую жизнь, будущее. Нет, он держался изолированно и нам не разрешал: какое вам дело, будьте осторожны. Я любил говорить на собраниях, выступать, он всегда говорил: тебе какое дело? Даже могу констатировать такой факт: двадцать человек сидим, разговариваем, одно мое слово может всех переполошить, сразу друг на друга смотрят: почему он так сказал, в чем причина? Понимаете, сказанное нами всегда настораживало. Но если бы мы оставались в прежних условиях, какие у нас были, то отношение, то уважение, какое было, осталось бы, конечно… Это ничем нельзя компенсировать. Все это оставляет необратимый след.
Да, о доносчиках. Отец узнал, кто. И я знаю. Может, даже, это было непреднамеренно, может, сказали из крестьянского простодушия. Может быть. Но никогда, никогда я не чувствовал у них чувства вины, не замечал. Наоборот, все они после нас занимали очень высокое положение. Они думают, что все таким готовым и бывает, ну, они не мучались, как мы, колоски не собирали, колхоз им принадлежал. Потом они стали руководством колхоза, всю свою родню назначили: одного бухгалтером, одного бригадиром, одного заведующим фермой, зять не знаю кем был, а нам разрешали сбоку подбирать то, что оставалось. Я и сейчас дружу с их потомством, никогда, никогда не позволял себе дать им почувствовать, что знаю, что их дед доносчик, что в наших несчастьях они виноваты. Даже не знаю, знают ли они, что я знаю, что отец знает. Один из моих сыновей и правнук этих людей почти как братья. Оба в России, имеют крупный бизнес. Мой сын – фермер номер один в Удмуртии. Там навещают друг друга, не знаю, крестный-крестник они друг другу или как. Не знаю, насколько верно будет сейчас сказать: этот человек – правнук нашего врага. Это от отца, отец всегда был трусливым, нет, не трусливым, он всегда был рискованным человеком, но в этих вопросах очень-очень… он всегда был осторожным человеком. Был осторожен в каждом слове и нам не разрешал. Как-то я выступил на партийном собрании завода по какому-то вопросу, дошло до отца, возник крупный спор: какое, мол, тебе дело. Все это должно расцениваться как жертва, жертвами были не только расстрелянный или ссыльный (Рис. 2, 3).
[nggallery id=48]