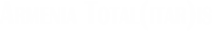Арпеник Алексанян

История Арпеник Алексанян. Семья Арпеник Алексанян, в отличие от зарегистрированных нами историй, имевших место на территории Армении, была сослана из Грузии – из Тбилиси, где обосновались ее родители после вынужденного переселения из Вана (Западная Армения) 1915 года. Ее история, будучи частной, тем не менее типичная – свидетельствующая, что высылки со всего Кавказа в 1949 году были особенно направлены против армян. Арпеник Алексанян скончалась в декабре 2013 года и по нашей просьбе ее «ссыльную историю» вкратце изложил ее сын – этнограф Арутюн Марутян.
Моя мать – Арпеник Араевна Алексанян (рис. 1-3, 6-8, 12-21), родилась 14 ноября 1925 года в Тифлисе, в семье ванских беженцев. Отец Арпеник, Арай Арамович Алексанян (1892-1983) (рис. 12), еще в 1912 году уехал на заработки к тете, в Иркутск. Мать – Ашхен Геворковна Туршян (1898-1958) (рис. 1, 9, 12), во время июльского отступления 1915 года (последовавшего через полтора месяца после самообороны г. Вана), вынужденно переселилась с семьей в Эчмиадзин, и после – в Ростов и в Тифлис. Здесь же молодые познакомились, создали семью, где и родились дочки – Арменуи (Армик) (рис. 12, 16), Арпеник (Арпик), Искуи (Ася) (рис. 3, 6, 12, 16) и Сильва (рис. 3, 8, 12, 16). Арай был в Тифлисе признанным мастером по изготовлению железных кроватей. Семья жила для тех времен сравнительно благополучно: они проживали на пересечении улиц Камо и Гриневича, в трехкомнатной квартире.
В 1934-1944 гг. Арпеник училась в русской школе № 47 (с 1943 г. – № 51), после окончания которой, в 1944 г., поступает на лечебный факультет Ереванского медицинского института. Со второго курса Арпеник продолжает учебу в Тбилисском медицинском институте. 14 июня 1949 года, когда Арпеник сдавала государственные выпускные экзамены (рис. 4), всю семью – Арайя Алексаняна, Ашхен Туршян-Алексанян, с дочерьми Арпеник, Асей и Сильвой (старшая дочь уже была замужем, носила фамилию мужа и имела ребенка), без предупреждения и без предоставления времени для подготовки, ссылают в Сибирь. Ничего не понимавшая семья лишь в поезде ссыльных должна была обнаружить, что их ссылают вместе с тысячами других армян из Грузии. Ванская семья Арайя Алексаняна и Ашхен Туршян-Алексанян высылалась в Сибирь, как «бывшие турецкоподданные». Всех остальных ссылаемых поезда также отправляли в Сибирь. Семья Арпеник оказывается в Томской области, где им пожизненно определяется место жительства в деревне Высокий Яр Парбигского района. Забегая вперед скажу, что Арпеник на протяжении пяти лет (1949-1954 гг.) вела дневник (одиннадцать тетрадей), в котором подробно описана одиссея ее семьи и других ссыльных с момента их появления в поезде. Более чем полвека спустя, в 2007 г., при активной поддержке ее родных, дневник был опубликован под заглавием «Сибирский дневник: 1949-1954 гг.», как первая публикация серии «Этнография памяти» Института археологии и этнографии Национальной академии наук Армении.
Уже в поезде начинаются унижения и жестокость по отношению к ссыльным. В закрытых вагонах, во время продолжавшегося целый месяц путешествия, люди «начинали забывать, что такое стыд». Несколько дней, проведенных в бараке томской тюрьмы и, особенно, эпизод с баней, мама во всех подробностях вспоминала более полвека. Так же никогда не забылось плавание на барже в Парбиг, когда часами стояли на ногах из-за того, что не было места, чтобы просто сесть, или гибель мальчика, упавшего в реку с баржи. Для Арпеник из тифлисской благополучной семьи и из интеллигентной среды медицинского института, вдруг очутившейся среди бессмысленной нечеловеческой жестокости и унижения, была непонятна и необъяснима ситуация, в которой она оказалась.
Весь дневник отражает протест против несправедливости, против боли, против выпавшей им судьбы, но также усердие интеллигентной семьи, направленное на создание в новых условиях новой жизни, осмысление этой жизни и сохранение человеческого тепла. Главная боль – это несправедливость, совершенная по отношению к семье Арпеник. К этому прибавлялась и не укладывающаяся в сознании членов семьи Арпеник грубость советского солдата, сотрудников МВД и МГБ (КГБ), унижение с их стороны человеческого достоинства ссыльных; боль от страданий, перенесенных родителями и сестрами, родными и близкими, от работы, которая каждую минуту угрожала жизни. Люди, оторванные от городской жизни на принудительные работы по валке леса, всегда находились в опасности. «Валка леса – самая тяжелая работа на лесозаготовке. Я с раннего утра до позднего вечера в снегу почти по пояс, ходить по снегу невозможно, каждую минуту нога задевает о ветки, и падаешь в глубокий снег. А опасность какая. Смерть ждешь каждую минуту. Дерево упадет неправильно или будет скол, или во время не предупредят “бойся!”, вот тебе и баста». В дневнике травматические эпизоды жизни описаны со всей правдивой жестокостью. Это – изменение настроения по несколько раз в течение одного дня из-за тяжелого быта; слезы, вызванные трудностями и переживаниями; борьба с бюрократическими проволочками, мысленно проводимая даже во сне; приходящая временами мысль о самоубийстве; осведомленность о трудностях жизни других ссыльных и отсутствие возможности помогать им. До последних дней своей жизни мама плакала, когда вспоминала, как работники органов безопасности пытались заставить ее шпионить за ссыльными и доносить на них и как, получив от нее отказ, они размахивали перед носом наганом.
В рамки нормальной логики никак не укладывалось то, что факт проживания родителей в городе Ване, находящемся на территории Турции, а следовательно, то, что они были гражданами этого государства, на самом деле является «виной», и эта «вина» должна быть наказана советскими законами. Эта «вина» была и у сотен тысяч других западноармянских беженцев, которым едва удалось спастись от геноцида. Значит, и они должны были быть сосланы? На пути в ссылку, который длился целый месяц, Арпик пыталась хотя бы для себя решить этот «вопрос»: она подробно описывает ссыльных армян, находящихся в ее вагоне и в эшелоне (в их эшелоне не было ни одного грузина), отмечает, откуда они были родом (определенную часть действительно составляли западные армяне – жители Вана и их потомки). Когда по дороге встречали эшелоны со ссыльными, Арпик и ее спутники обязательно пытались уточнить, откуда родом эти жители Армении и получала ответы: из Еревана, Севана, Амамлу (ныне Спитак), встречались и репатрианты. У Арпик рождается вопрос: «Если нас считали бывшими турецкими подданными, то чем же были виновны они, которые родились, выросли на земле армянской, которые никогда не были в руках у турков. Все это было непонятно».
Следовательно, первой мыслью Арпеник и ее друзей по несчастью становится то, что произошла ошибка, и надо в виде письменного или устного заявления-жалобы представить правду государству и его соответствующим органам – государственной безопасности, внутренних дел, правосудия и другим высшим и низшим руководителям и они, рассмотрев вопрос, обязательно вынесут справедливое решение. Так был воспитан советский гражданин. И начинается процесс составления заявлений-жалоб. Характерно, что первое заявление было написано по совету и даже под диктовку именно того капитана, который и отправил семью Алексанян в ссылку. Арпеник продолжала писать заявления и с железнодорожной станции Тбилиси, и по дороге в ссылку, и находясь несколько дней в тюрьме, писала их и из места ссылки – села Высокий Яр, из райцентра, из областного центра. Заявления писали и родственники, и друзья, и соседи в Тбилиси и Ереване; некоторые из них специально встречались с руководителями различных органов и объясняли им, что произошла ошибка, что семья Алексанян в действительности невиновна.
Для Арпеник написание заявлений для семьи, сестер, многих людей, обращающихся к ней и по своим личным вопросам становится частью жизни. Как правило, ответом на заявления было то, что их посылали в то или иное учреждение на рассмотрение. После получения такого ответа начинались недели и месяцы ожидания, полные надежды и слухов о благополучном исходе по другим подобным заявлениям, до тех пор, пока не приходил чем-то обоснованный, а чаще – ничем не обоснованный отказ. Затем писалось ответное заявление, в котором объяснялась необоснованность отказа, и снова ожидание ответа, и снова отказ. Так продолжалось в течение четырех-пяти лет. Однако написание заявлений имело, на мой взгляд, очень важное (возможно, не осознаваемое заявителями) положительное значение: это давало возможность наполнить травматический кризисный быт иллюзией борьбы и помогало преодолению тягот этого быта.
Несмотря на часто встречающиеся проявления боли и страдания в тяжелые годы ссылки, Арпеник не потеряла способность своей жизнерадостностью преодолевать боль, причиненную несправедливостью. Смех и чувство юмора сопровождали Арпик и ее сестер в тяжелые молодые годы, продолжали сопровождать и в дальнейшем. В годы сибирской ссылки сестры смеялись на работе, дома, общаясь с соотечественниками, даже конфликтам с соседями они придавали юмористический оттенок.
Тема Кавказа и кавказцев прослеживается в дневнике Арпеник каждый раз в разных проявлениях: кавказцы всегда интересовались судьбами друг друга, пытались друг другу помочь, поддержать. В представлении русских, кавказцы, независимо от этнического происхождения, были земляками. Самым ярким проявлением всекавказской солидарности, общекавказского надэтнического самосознания, было, пожалуй, исполнение кавказцами застольной песни «За Кавказ» почти на каждом сборе. Роль этнического фактора выступает на первый план только, когда во время регистрации их записывают как турок. Людям, пережившим геноцид или много слышавшим о нем, было очень трудно примириться с подобной действительностью. Как пишет Арпеник, «Видим – на регистрационных листах написано выселенка-турчанка. Вот еще, уже превратили в турок. Мы подняли шум, но все равно, надо подписываться и все. Федя [сотрудник комендатуры] объяснил, что это просто категория выселенцев, а не нацию трогают. Мы в основных списках опять указаны армянами, а это [турки] – категория выселенцев, как спецпереселенцы, кулаки, рязанцы и т.д. и т.п. Папа говорил, напишите русский, китаец, но не турок. Все это напрасно, так как мы знали, что Гурген [один из переселенцев-армян] сопротивлялся, но все же заставили. Мама, узнав, что подписали и за нее, подняла большой шум, нас ругала и оскорбляла, что мы так быстро изменили свою нацию». И, по прихоти судьбы, «у всех взяли паспорта и выдали справку о том, что мы турки». Примечательно, что и по сей день в советских архивных документах семья Алексанян числится как «турки».[1]
Почти ежедневное общение друг с другом помогало ссыльным армянам сделать их быт более сносным. Свое место занимало и виртуальное общение. Так, особенно радовались, когда по радио передавали армянские песни, или когда до показа художественного фильма демонстрировалась документальная картина, посвященная Армении.
Самой большой психологической и моральной помощью в преодолении трудностей ссылки, поступающей извне, были, пожалуй, письма: письма и телеграммы от родственников, близких, друзей, соседей. Письма часто бывали единственной радостью и утешением целого дня. Судя по дневнику, Арпеник и члены ее семьи вели переписку приблизительно по 60-ти адресам.
Виртуальная связь довольно часто принимала вещественную форму – в виде продовольственных посылок. Что только не приходило из родного Тбилиси и Еревана, принося с собой вкус и запах Родины: сухофрукты и изюм, чурчхела и суджух, алани, сушеная вишня, тута, абрикосы, а также яблоки, груши, виноград, пшат, очищенные орехи, лобио, зелень, красный перец, томат, вишневое, ореховое, абрикосовое варенье, домашняя водка и коньяк, конфеты, шоколадные плитки, рахат-лукум, сухая сыворотка для сыра. Ссыльные часто делились друг с другом содержимым посылок.
В преодолении трудностей сибирской жизни семье Алексанян очень помогала прочность семьи, готовность членов семьи поддерживать друг друга. Каждая из сестер беспокоилась за другую как в поисках работы, так и в вопросах учебы. Очень весомое значение имели непрекращающиеся денежные перечисления со стороны родственников и друзей.
Важнейшим фактором, способствующим сохранению духа и жизнестойкости Арпеник, было, по нашему мнению, ее упорное, не останавливающееся ни перед какими препятствиями, можно сказать, упрямое стремление работать по специальности врача. И, наконец, мне кажется, что Арепеник помогало преодолеть горечь ссыльной жизни, именно ведение дневника.
Ссылка, кроме всего прочего, была жестокой школой жизни для ссыльных. Часть не выносила, ломалась, но многие не только выдерживали, но и закалялись, становились сильнее, преодолевая в ежедневной борьбе новые, непривычные жизненные трудности. Арпеник, возможно, была одной из тысяч таких людей.
В ссылке, уже после смерти Сталина, в 1953-1954 гг. Арпеник удается продолжить учебу в Томском медицинском институте, однако накануне выпускных экзаменов приходит долгожданная весть об освобождении (рис. 10, 11) и семья Алексанян возвращается в Тбилиси (рис. 12). В 1954-55 гг. Арпеник продолжает учебу на последнем курсе Ереванского медицинского института. В декабре 1955 г. она выходит замуж за архитектора Тирана Арутюновича Марутяна (1911-2007)[2] (рис. 13). В 1956 г. родился я, в 1958 г. – моя сестра Татевик (рис. 14, 15, 20). В 1956 г. Арпеник поступает и до выхода на пенсию в 1990 г. работает в поликлинике Третьей (позже Республиканской) детской клинической больницы, как педиатр. Моя мама скончалась 17 декабря 2013 г.
[nggallery id=45]
Арпеник Алексанян всегда хотела, чтобы как можно больше людей были знакомы с реальной картиной сталинских репрессий. Тираж ее книги давно исчерпался, и поэтому, учитывая, что дневник Арпеник Алексанян – единственное в своем роде известное нам произведение в армянской действительности, а также то, что автору принадлежит свидетельство № 1 «Лица, имеющего статус репрессированого», было сочтено целесообразным предложить вниманию читателей электронную версию ее книги и разместить ее на нашем вебсайте.
[1] См.: Жертвы политического террора в СССР. http://lists.memo.ru/index1.htm
[2] Подробнее о нем см. www.tiranmarutyan.am